Продолжаем говорить: конспект книги Роберта Макки о диалогах
Во второй части материала по книге Роберта Макки «Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов» анализируем и разбираем ошибки, которые может совершить писатель при написании диалогов
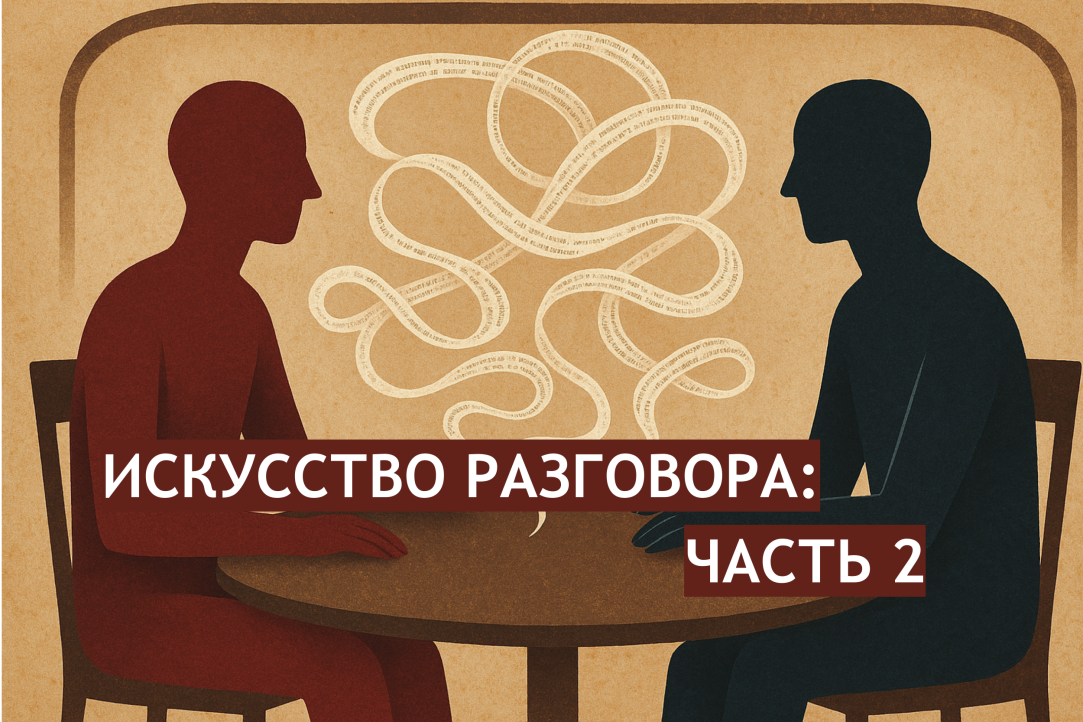
Ошибки убедительности
Диалог правдив, когда словесные действия героя совпадают с его мотивациями. Внутренние желание не может не влиять на внешнее проявление эмоций и истинной сущности персонажей.
Пустой разговор, слишком эмоциональный или слишком многозначительный диалог редко оправдываются в тексте. Эмоциональный диалог и его контекст всегда должны взаимодополнять друг друга, чтобы сцена выглядела натурально, а не наигранно. Мелодрама часто существует ради существования, и основная проблема тут заключается не в излишней выразительности, а в недостаточной мотивации. Соотношения мотивации и действия будет разным для каждой конкретной роли и должно быть накрепко встроено в героя, который сначала чувствует, а потом действует.
Автор знает все, что знает герой, но читатель не знает все о герое, как и сам герой не может знать о всем, что выходит за пределы его жизни и мироощущения — нельзя забывать об этой границе, чтобы случайно не создать слишком проницательного всезнающего персонажа.
Ошибки языка
Сюда Макки относит клише, слишком нейтральный или наоборот слишком вычурный язык.
Диалог, нейтральный по отношению к персонажам, зачастую подменяет частное общим. В таком случае, все разговоры персонажей рискуют стать одинаковыми и неинтересными. Необходимо искать слова, настолько свойственные вашему герою, что из других уст они прозвучат неестественно. При этом, очень важно не переборщить с «необычностью». Из всех аспектов словесного портрета речь куда быстрее вызывает недоверие, а потому диалог необходимо сделать не бессмысленным, но и не нагруженным. Вне зависимости от того, насколько ярким будет язык в диалоге, это не будет иметь абсолютно никакого смысла, если читатель устанет или не поймет сказанного.
Макки выводит следующую схему:
Плохо написанный диалог склонен к буквализму: в нем сказано то, что сказано. Диалог же хорошо написанный содержит гораздо больше, чем составляющие его слова и фразы — за каждым текстом в нем содержится подтекст. Если диалог не содержит невысказанных мыслей и чувств, Макки рекомендует либо обогащать его, либо удалять.
Четыре причины провалившегося диалога
Макки выделяет четыре основные причины, по которым многообещающая в начале сцена выбивается из связки, и диалог становится напыщенным и безжизненным:
1) внутренние желания полностью мотивированы, но диалог слишком банален, отчего вся сцена становится плоской;
2) внутреннее желание слабо мотивировано, а диалог излишне эмоционален, отчего сцена становится мелодраматичной;
3) внутренние намерения и внешние действия кажутся несоответствующими друг другу, поэтому сцена лишается смысла, а диалог становится нелогичным;
4) желания героев движутся бок о бок, никогда не сталкиваясь в конфликте.
Чтобы изменить форму неудачного диалога, можно поработать с текстом или подтекстом — переписать реплику и подстроить контекст или проработать внутренний мир героя тщательнее. Лучшим решением будет поработать над историей и с той, и с другой стороны, попытаться трансформировать все, происходящее внутри героя, в словесную ткань. « Язык — инструмент сознательного мышления, образ — инструмент бессознательного », а потому живой, образный диалог всегда будет резонировать с внутренней и внешней составляющей героя и окружающего мира.
Схема истории
Для правильного и надежного устройства истории Макки выводит следующую схему: запускающий механизм + ценность истории + движение, в основе которого лежит желание .
Чтобы прописать уместные диалоги, которые понравятся читателям, необходимо тщательно проработать все четыре аспекта.
Главный герой романа Евгения Водолазкина «Чагин», человек с феноменальной памятью, переезжает в Ленинград и становится агентом КГБ, из-за чего ему приходится совершать противоречивые поступки, о которых он впоследствии жалеет. Запускающий механизм истории — переезд Исидора. Ценность истории — тема памяти, верности и предательства, важность выбора. От начала до конца Исидор борется с внутренним конфликтом, желание решить его двигает историю.
История начинается тогда, когда происходит событие — так называемое отклонение от традиционного образа жизни или мыслей персонажа. Такое событие для Исидора — начало работы в КГБ.
Если смотреть на запускающий механизм истории с аспекта ценности, то она должна непременно поменяться от начала до конца как истории, так и сцены. Когда одна или несколько ценностей меняет заряд с положительного на отрицательный или наоборот, то начинается путешествие героя из точки А в точку Б, происходит событие.
Заряд первой сцены «Белых ночей» меняется, когда тоскующий и скучающий Мечтатель выручает Настеньку и они договариваются о следующем свидании. Тоже самое происходит и в последней сцене их расставания. Эта случайная встреча навсегда меняет обоих персонажей.
В основе движения также лежит желание, состоящее из следующих частей: объект желания, серхнамерение, мотивация, намерение сцены и подспудные желания .
После запускающего сцену инцидента главный герой рисует себе объект желания , который по его ощущениям необходимо заполучить, чтобы наладить свою жизнь.
Сверхнамерение мотивирует главного героя стремиться за объектом своего желания и переводит осознаваемое желание в статус сильнейшей необходимости, без которой герой попросту не сможет вернуться в комфортную исходную точку. Иначе говоря, объект желания — субъект, а сверхнамерение — предикат: то, чего хочет герой, противостоит эмоциональному голоду, который им движет.
Мотивация — вещь наиболее субъективная, так как ее корни зачастую лежат в бессознательном и формируются еще в детстве. Мотивация должна ответить на вопросы, зачем и почему герой стремится к объекту желания.
Намерение сцены определяет, что герой собирается сделать именно сейчас на своем долгом пути к сверхнамерению. Ведь в каждой сцене у персонажа могут появиться дополнительные подспудные желания , которые тоже необходимо закрыть, так как чаще всего закрытие подспудных желаний определяет как и в каком виде герой доберется до объекта желания.
В отличии от объекта желания, которое заставляет героя двигаться, подспудные желания зачастую могут заставить героя застопориться на одном месте, замедлить общий темп повествования или вовсе выбить героя из колеи. Но достигая такие мелочи на пути к чему-то большему, герой раскрывается со всех сторон, показывается его истинная личность.
Разберем аспекты желания Лопахина из «Вишневого сада»:
Нельзя забывать и о силах противодействия. Конфликт у героя при достижении объекта желания может быть на всех уровнях — физический, общественный, личный, внутренний — сочетание и сила этих конфликтов двигают сюжет вперед и помогают герою развиваться, а сюжет делают глубже и динамичнее.
Конфликтов у Лопахина множество: это и общественный конфликт с жителями поместья, в основе которого лежат разные ценности и принадлежность к разным классам, и личный конфликт с Раневской и Гаевым, и внутренний конфликт между желанием помочь и желанием самоутвердиться.
Все эти аспекты выстраиваются вокруг так называемого хребта действия — это в буквальном смысле дорога, вдоль (или наперекор) которой идет герой для достижения объекта желания. Борьба с силами противодействия, выполнение подспудных желаний и изменение персонажа двигают повествование до самой кульминации, точки разрешения всех конфликтов, после которой должно последовать либо обретение персонажем желания, либо его проигрыш. И, как верно отмечает Макки, разговор — это один из основных видов деятельности, который идет вдоль хребта действия.
Схема диалога
Подобно истории в целом, разговор тоже имеет свои аспекты: желание, чувство противоречия, выбор действия, действие-противодействие, исполнение.
Рассмотрим диалог Ники и Ирины в романе «Протагонист» Аси Володиной с точки зрения обеих героинь:
Небольшой диалог перед внефабульной вставкой письма показывает нам характеры героинь, их внутренние конфликты и то, как они ведут себя с другими.
Как только жизнь героя выбивается из равновесия, он задумывается, что ему нужно достичь для восстановления жизненного равновесия (возникает объект желания). Его стремление достичь объект желания (сверхнамерение) мотивирует активный поиск (хребет действия). Двигаясь по хребту в каждый отдельный момент (сцены), он должен удовлетворить сиюминутные желания (намерение сцены), чтобы приблизиться к объекту желания. Главное желание, намерение сцены и сверхнамерение влияют на то, какой выбор будет делать герой и какие действия совершать. Желание становится источником действия, а действие является источник диалога. «Сцена живет не в диалогах, а в действиях, которые совершает герой параллельно разговору».
Наконец, Макки советует исследовать два подхода: изнутри наружу и снаружи вовнутрь . При первом подходе писатель представляет себя на месте единственного зрителя, находящегося в центре жизни героя. Он обладает неограниченным количеством вариантов, как и что можно сделать, что сказать именно в этой сцене, как направить героя — ведь он зритель, он видит все эти варианты. Но если автор будет оставаться только снаружи, его восприятие может потерять связь с потоком эмоций, с внутренней составляющей. По этой причине нужно действовать и изнутри наружу, проникать в самую сердцевину своего героя, в ядро, соответствующее понятию «я».
Книга Макки представляет собой отличный путеводитель для писателей, сценаристов и драматургов, которые столкнулись с проблемами написания диалогов. Автор не только дает теоретические основы, связанные с разговорами персонажей между собой и с читателем, но и подробно рассказывает о возможных ошибках и учит, как повышать качество текстов, следуя простым и универсальным правилам.
конспект подготовила Анастасия Лысенко
