Лингвисты
Максим Кронгауз и Александр Летучий о том, как складывалась их научная жизнь, и об академических стандартах своей науки

Профессор-исследователь Школы филологических наук, заведующий Научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик
— Как складывалась ваша лингвистическая карьера? Насколько ее можно назвать типичной?
— Во времена моей молодости слово «карьера» имело отчетливый негативный оттенок, от ощущения которого лично мне так и не удалось избавиться. Во время учебы на филфаке МГУ я делился планами, а может, и мечтами со своей будущей женой. Они состояли в том, чтобы поступить работать в научное место, дорасти до младшего научного сотрудника и продержаться в этом статусе до конца. Скромность (сейчас уместнее звучит слово «ущербность») карьерных планов не означала, что я собираюсь прожить ущербную жизнь, просто настоящая жизнь располагалась вне карьеры. Карьера же ощущалась как нечто независимое от моих усилий и, скорее всего, печальное, если учитывать мою фамилию и беспартийность, которую я собирался сохранить.
Скорее всего, поэтому говорить об академической карьере как лестнице, состоящей из ступенек-должностей, мне не только не интересно, но даже и неприятно. А вот переосмыслить академическую карьеру как некоторое количество достижений, связанных с наукой, любопытно. Любопытно даже просто повспоминать, что же я такого сделал за прошедшие годы. Конечно, не буду занудно вспоминать всю свою жизнь, но несколько таких «научных шагов» назову.
В научной деятельности для меня все-таки самым важным являются тексты, которые я написал. У меня не было и нет какого-то рецепта, как писать научные статьи, но сам я чаще шел от конкретного к общему, иногда просто от конкретного примера к теоретическому рассуждению. Из сравнения фраз «все мужчины сволочи» и «всякий мужчина сволочь» появилась статья о кванторных местоимениях. Из странноватого и антиисторического вопроса о том, могли ли Лжедмитрия в принципе звать Дмитрием, возникла статья о воплощенных и невоплощенных именах собственных. Вопрос, случайно запавший в голову, становится стимулом для размышления, а написание статьи — развернутым ответом на него. Из множества статей и книг, которые я написал, трудно выбрать какую-нибудь одну, но чего не сделаешь ради краткости.

«Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика» (1998). Пока первая книга не написана, вообще не понимаешь, способен ли ты написать книгу. Но тут все вроде бы складывалось хорошо. Издательство было готово публиковать книгу. Написано несколько ключевых статей — будущих глав. Сложилась структура книги и понимание того, что еще нужно дописать. И, наконец, получена стипендия Гумбольдта, то есть год пребывания в Университете Гёттингена посвящен этому исследованию. Нельзя сказать, что эта книга выросла из одного-двух примеров, но яркие фразы с неожиданными приставочными глаголами требовали объяснения и приковывали мой интерес. До сих пор помню фразу Владимира Корнилова из романа «Демобилизация»: «Любовь надо вылюбить, а то свербить, сверлить, ныть будет». Или замечательное «мы его с орлятами так отволохаем — век не забудет» Валерия Попова. Героями отдельных экскурсов стали глаголы скоммуниздить, сбондить, растамаживать и т.д. До сдачи книги и до конца стипендии оставалось несколько месяцев, и вдруг я поймал себя на том, что уже больше не пишу книгу, а занимаюсь чем-то совсем другим, название чего я узнал через много лет. Я работал дома за собственным ноутбуком, и не писать книгу можно было разными комфортными способами. В общем, прокрастинация (это была она!) грозила погубить мою академическую карьеру на самой ранней стадии. Но в молодости мне часто помогала судьба, и в тот раз она решительным образом сломала ноутбук, поставив под угрозу написание книги уже независимо от моих усилий. Мне пришлось ежедневно ходить в университет, делить кабинет с коллегой, восстанавливать фрагменты текста на другом компьютере и вообще совершать много рутинных действий, отпугивающих прокрастинацию. Немного невпопад я и сейчас благодарю судьбу «приставочной» цитатой из книги: «Дай выстрадать стихотворенье! Дай вышагать его!» (Давид Самойлов).
Истории отдельных статей запоминаются меньше, чем истории книг, но не могу не вспомнить историю одного цикла популярных статей. Весной 2006 года мне позвонил журналист из газеты «Ведомости» и предложил писать еженедельные колонки о языке. Это было неожиданное и смелое предложение (колумнистов-ученых тогда еще почти не было), которое я решительно принял. У меня уже был опыт написания популярных статей, но здесь все было по-другому. Шесть тысяч знаков каждую неделю при строжайшем дедлайне были абсолютно непривычны и создавали нервное напряжение. Если вначале на кураже и научном азарте я с этим справлялся, то через пару месяцев я обнаружил себя лежащим на диване и неспособным пошевелить пальцем (уже не прокрастинация, а скорее депрессия). Назавтра был дедлайн, и не один — долги по традиционным направлениям тоже накапливались. И снова судьба — в облике моей жены — подошла ко мне и спросила: «Хочешь, попечатаю?» И я продиктовал завтрашнюю статью, а потом еще что-то и еще, пока я не начал шевелить пальцами, а потом и встал с дивана.
Я писал колонки до конца года, подпитывался комментариями читателей, радовался приобретенной узнаваемости во внелингвистических средах, но все же решил остановиться, чтобы сохранить ощущение творческого научного акта, отчасти уходящее, когда его сменяет журналистская рутина. Кроме того, я решил завершить этот опыт книгой, и материала для нее к тому моменту уже хватало. Книга «Русский язык на грани нервного срыва» сыграла в моей жизни важнейшую роль, но этот этап я пропущу в силу его публичности и известности.

Из статей упомяну еще одну, памятную мне из-за сопровождавшей ее написание истории. В разных текстах я время от времени набрасывал речевые портреты политиков, отмечая характерные детали их речи. Среди них я особенно выделял Виктора Степановича Черномырдина, неоднократно творившего, как мне казалось, лингвистическое чудо. Наградой мне стало приглашение написать аналитическую статью к сборнику «черномырдинок», называвшемуся «У меня к русскому языку вопросов нет» (2022). Кроме великой фразы «Хотели как лучше, получилось как всегда» у Черномырдина целый букет глубоких, ярких и просто смешных высказываний. В статье «О речевых парадоксах и бремени народного трибуна» мне, как кажется, удалось совместить исследовательскую сущность и популярную форму, что случается довольно редко.
Но не текстом единым! Важную часть моей жизни занимают доклады, лекции и вообще устные выступления. Я очень рано, еще в аспирантуре, начал читать самостоятельный курс. В начале 1980-х на кафедре структурной и прикладной лингвистики специально обсуждался мой случай, можно ли аспиранту разрешить читать спецкурс; в результате разрешили. Я читал очень разные курсы — от старославянского языка до истории письма, от словообразования до лингвистической антропологии. Но, наверное, главный курс моей жизни — это семантика, которую я читал много лет в Институте лингвистики РГГУ, начав еще в прошлом веке. По этому курсу я написал два пособия: учебник и задачник, и до сих пор ко мне иногда подходят подписать их после выступлений. Впрочем, написание учебника имело и обратную сторону. Я стал ловить себя на том, что слишком часто опираюсь на письменный текст, меньше импровизирую, и понял, что учебник стал своего рода завершением курса.
Еще одним интересным опытом оказалась запись на Coursera видеокурса, посвященного речевому этикету. У этого курса своя нетривиальная судьба, поскольку его стали использовать на разных факультетах НИУ ВШЭ, а меня приглашали принять экзамен или просто по окончании курса встретиться со слушателями и ответить на вопросы.
Отдельных лекций я прочел множество, и запоминаются они хуже, чем курсы, но все же об одной лекции скажу. В начале этого века стали очень популярны так называемые открытые лекции, то есть «лекции для всех». В 2011 году Институт лингвистики РГГУ, которым я тогда руководил, организовал цикл лекций по лингвистике в Политехническом музее. Мне казалось необычайно почетным ввести лингвистику в, если так можно сказать, намоленное пространство Политехнического. Среди лекторов были Андрей Зализняк, Татьяна Черниговская, Марина Бутовская, Алексей Гиппиус и другие. Я в начале марта открывал этот цикл лекцией «Язык и мышление: гипотеза лингвистической относительности». Она стала началом целого ряда моих обращений к этой области — исследовательских и образовательных, — в частности, легла в основу курса лингвистической антропологии, который я вместе с коллегами читал в НИУ ВШЭ и МФТИ.

Раз уж речь зашла о моих организационных способностях, вспомню еще об одном деле моей жизни. В начале 1990-х годов мы вместе с моей коллегой Еленой Владимировной Муравенко придумали и организовали Летнюю лингвистическую школу. Главная идея состояла в том, чтобы создать научную среду, объединяющую преподавателей, студентов и школьников. Сейчас даже глупо объяснять, что такое летняя школа, но тогда мы были в числе первых, и приходилось все придумывать в первый раз. Девяностые были временем чрезвычайной легкости, и уже в 1992 году, опираясь на поддержку наших друзей и знакомых, мы провели первую школу в Дубне на базе дубнинского лицея №6. Меняя источники финансирования и места проведения, привлекая новые поколения лингвистов, Летняя лингвистическая школа дожила до 2022 года и, возможно, будет жить дальше.
Кстати, это особое удовольствие — наблюдать, как твои книги, дела, лекции начинают жить самостоятельной жизнью и в каком-то смысле переживают тебя и твои усилия. Отчасти это касается и людей, то есть учеников, несущих твои идеи, часто даже не осознавая этого. И еще одно удовольствие, о котором я не могу не сказать, состоит для меня во множестве новых дел, за которые я брался, новых предложений, на которые я отзывался. Многие ученые устроены иначе и не разделят со мной этой радости, я же всегда хотел попробовать что-то новое и неожиданное, — возможно, даже за пределами моей профессиональной области.
И в завершение рассказа об академической карьере отвечу на второй вопрос: считаю ли я свою карьеру уникальной? Мне кажется, что при том понимании академической карьеры, какое сложилось у меня, она будет уникальной практически у любого ученого, хоть что-то совершившего, а не просто собиравшего набор академических должностей и званий.
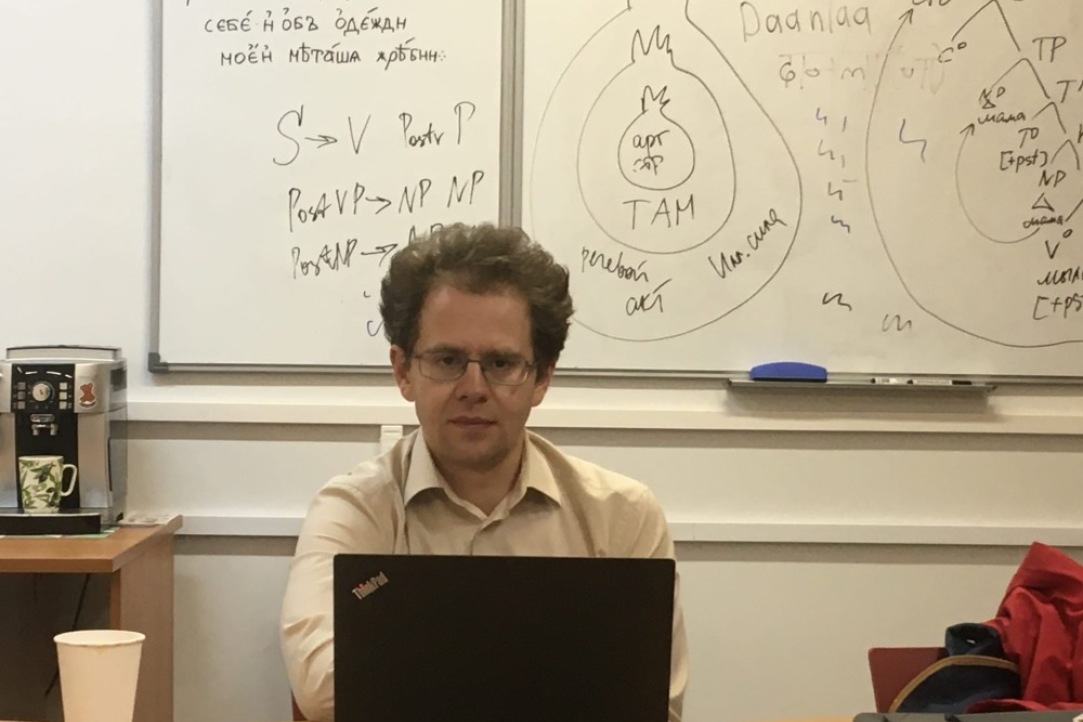
Профессор Школы лингвистики факультета гуманитарных наук
— С чего начиналась и как складывалась ваша карьера лингвиста?
— Моя карьера началась с поступления в РГГУ в 1999 году. В то время в Москве было два места, в которых учили современной теоретической лингвистике, — отделение теоретической и прикладной лингвистики МГУ и факультет теоретической и прикладной лингвистики (позднее — Институт лингвистики) РГГУ.
Не берусь сравнивать, где учили лучше, — на мой взгляд, качество образования было сопоставимым. Учителя у нас были замечательные: специалисты по синтаксису и типологии Яков Георгиевич Тестелец, Елена Владимировна Муравенко и Вера Исааковна Подлесская; исследователи семантики Максим Анисимович Кронгауз и Георгий Константинович Бронников; морфолог и историк языка Анна Константиновна Поливанова. Но, пожалуй, главными для меня были мои научные руководители: Нина Романовна Сумбатова, типолог, специалист по кавказским языкам и руководитель первых наших лингвистических экспедиций, и Григорий Ефимович Крейдлин, у которого я писал о жестах, сопровождающих или подменяющих собой устную речь.
В целом можно сказать, что карьера у меня складывалась довольно благополучно. По крайней мере, мне редко приходилось долго работать совсем не по специальности, только для заработка. После окончания университета Владимир Александрович Плунгян и Екатерина Владимировна Рахилина пригласили меня в Национальный корпус русского языка и в Институт русского языка. Это и явилось первыми моими «профильными» заработками. Вообще, Екатерина Владимировна и Владимир Александрович сыграли важную роль в моей научной судьбе: Екатерина Владимировна — мой руководитель в Вышке, а под началом Владимира Александровича я работаю в Институте русского языка РАН.

— Насколько вашу карьеру можно назвать типичной для российского лингвиста?
— Мне кажется, что, в принципе, она довольно типична. Очень часто бывает, что молодой лингвист и пробивается сам, начинает собственные исследования и одновременно с этим работает в больших проектах.
Как особенность я бы выделил то, что я несколько раз менял область деятельности. Это касалось и языков, которые приходилось исследовать (начинал я с жестов в русской коммуникации, затем писал несколько работ по материалам экспедиций, последняя моя курсовая была по арабскому, потом я перешел в типологию, где работал с большими выборками языков, а сейчас снова больше всего работаю с русским материалом), и тем исследований.
На втором курсе на меня очень сильно повлияла лекция Владимира Александровича Плунгяна о залогах и актантных деривациях — о способах, которые язык использует, чтобы выделить или, наоборот, убрать на задний план участников ситуации. Например, можно сказать «Петя плохо работает», и тогда мы считаем, что плохая работа на совести Пети. Однако в русском языке можно добавить возвратный показатель: «Пете плохо работается», — тогда Петя как бы становится подчиненным, неактивным участником, на него что-то влияет и не дает ему работать. Так язык позволяет снять с участника ответственность за недочеты и промахи.
Так вот, после лекции Владимира Александровича я решил, что буду заниматься залогом. И примерно восемь или девять лет (до защиты кандидатской или даже немного дольше) мои научные интересы были связаны именно с участниками ситуации. А потом я ушел в смежную область — в грамматику сложного предложения. Здесь тоже сыграло роль влияние коллег, особенно Натальи Вадимовны Сердобольской.
Еще одна черта моей карьеры: я почти никогда не работал только над одной темой. Мне казалось, что при такой концентрации глаз немного замыливается и полезно иногда перейти от одной темы к другой, а потом вернуться к прежней. Например, по одной теме у тебя уже есть наработки, ты пишешь или исправляешь статью, в то время как другая тема только начинается, ты набрасываешь мысли, ищешь примеры явления в языке. А третью тему можешь вообще только продумывать или обсуждать с коллегами. Это позволяет избежать ситуации, когда ты насильно засаживаешь себя за работу, потому что тема надоела, а дописывать статью надо.
И еще одно. Я, наверное, отличаюсь от многих коллег по Вышке тем, что не люблю групповые проекты. Мне очень важна возможность выстраивать работу так, как я хочу, чувствовать, как формируется идея, как меняется замысел темы. В группе это получается хуже. Хотя, конечно, в групповых проектах я тоже участвую, и чужой опыт всегда обогащает.

— Лингвисты защищаются как филологи. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию? Почему так? Пустая ли это формальность или в этом есть какой-то смысл?
— Мы много обсуждали это с коллегами, и мнения у всех разные. Конечно, изначально за объединением лингвистики и литературоведения в рамках филологии стоит уважаемая традиция, а уж в России она позволила достичь просто поразительных успехов: это традиция исследования художественных произведений с вниманием к их языку, к средствам выразительности, которые использовал автор. Лингвисты совершенно из разных парадигм и даже из враждующих между собой лагерей обращались к языку литературы. Можно назвать хотя бы Юрия Михайловича Лотмана, Елену Викторовну Падучеву, Виктора Владимировича Виноградова, а из ныне здравствующих — Татьяну Владимировну Скулачёву и многих других.
Тем не менее если говорить обо мне лично и о коллегах, с которыми я вместе работаю в Школе лингвистики НИУ ВШЭ и в Лаборатории по формальным моделям в лингвистике, то мне кажется, что наша область лингвистики с литературой связана довольно мало. Особенно тут нужно подчеркнуть одно различие. Для собственно филолога, литературоведа важны выдающиеся тексты. Неважно, идет речь о Кантемире, Пушкине, Веничке Ерофееве или Сорокине, мы предполагаем, что текст, который мы исследуем, — это штучный товар, выдающийся образец текста и языка, даже если он попадает в рамки какого-нибудь направления.
Для лингвиста же в каком-то смысле все тексты одинаковы. Мы смотрим на то, как устроен язык, и в этом отношении текст Пушкина и устная речь обычного человека абсолютно равноценны. Более того, может случиться, что хороший художественный текст для лингвиста окажется менее показательным: дело в том, что автор рефлексирует над своим произведением, и то, как он оформляет мысль словами, может быть сознательной игрой или стратегией выстраивания произведения. А когда пишет обычный человек, который меньше «думает, как сказать», это показывает общее устройство языка.
Недавно я делал доклад о такой ситуации, когда люди вместо единственного числа используют множественное, например: «“Спартак” опять не проходят в плей-офф», «“Майкрософт” выпустили новую версию программы». Люди довольно часто пишут так в интернете и говорят устно. А в хороших литературных текстах таких примеров мало.
В этом смысле филология, как мне кажется, ближе к таким наукам, как искусствоведение или история. Филологи изучают то, как и почему человек создает то, что создает: почему он тем или иным образом пишет тексты, строит храмы, рисует картины, основывает и разрушает государства. А лингвистика при всей своей связи с другими гуманитарными науками близка еще и к биологии и другим естественным наукам. Мы смотрим на объект изучения, и у нас не всегда есть подсказка в виде намерения какого-то субъекта (как это бывает, например, при изучении картины). Часто мы должны подумать об общих правилах и законах, по которым устроен и развивается язык и его составные части, так же как биологи думают о поведении и развитии живых организмов.

— Чем отличается академический этос лингвиста? От академического этоса филолога, например?
— Мне довольно сложно об этом судить — мы не обсуждали с коллегами-филологами детали. Но мне кажется, что всегда нужно различать требования, которые предъявляются извне — «сверху» или «сбоку», администрацией университета или Академией наук, знакомыми, родственниками, — и требования, которые предъявляются коллегами по твоей области специализации.
Внешние требования могут быть разными, и они могут меняться. Например, может оказаться, что вчера нужно было публиковаться в одних журналах, а сегодня — уже в других; сегодня выше котируются статьи, завтра — монографии, а послезавтра — доклады. Однако важнее все-таки требования коллег по твоей области, хотя они чаще всего не формулируются в виде набора формальных правил. И здесь, я думаю, у филологов и у лингвистов все одинаково: нужно работать, обдумывать свою тему, публиковать результаты и излагать их. И хорошо, если выводы в разных статьях не слишком похожи друг на друга, а развиваются. Где бы ни была опубликована работа, всегда легко отличить интересную статью от статьи, где половина текста — ссылки на предшественников.
А еще в любой науке, включая и филологию, и лингвистику, нужно, чтобы тема была тебе интересна. Без интереса к процессу исследования и к искомым результатам ничего не выйдет, по крайней мере у меня так. Может быть, есть коллеги, которые способны что-то сделать потому, что их тема объективно важна, что их исследование нужно и полезно. Но у меня, если я теряю интерес, и получаться все начинает хуже. И вообще, у науки, притом что, по сути, работать надо много, внешние рамки очень эфемерные: тебе не звонит утром шеф и не говорит: «Берись за статью». Поэтому интерес к своему делу — существенное подспорье. Без него остается сплошная самодисциплина, строгое служение, а на одной дисциплине далеко не уедешь: все силы будут уходить на то, чтобы себя дрессировать.
- ВКонтакте
- Telegram


